НОВОСТЬ
 1647
1647 8
8 1
1
Как склеить Украину, как десоветизировать такие освобожденные территории, как Славянск - донецкий историк Елена Стяжкина

Сегодня многие украинцы психологически отрезали в своем сознании не только Крым, но и оккупированные территории Донбасса. Однако не все. Историк, литератор, координатор гражданского движения "Деокупація. Повернення. Освіта" Елена Стяжкина продолжает искать ответы на непопулярные вопросы: как "склеить" Украину, как деоккупировать (десоветизировать) не только неподконтрольные, но и прифронтовые освобожденные и все остальные территории. "Зеркало недели" побеседовали с историком.
И хотя у Стяжкиной нет четкого видения, как освобождать оккупированные территории ("Я очень надеюсь на хорватский сценарий. Но может быть и по-другому"), она считает, что законодательно и технологически нужно быть готовыми к любому сценарию возвращения этих территорий Украине в любой момент, а "прощение и наказание должны быть в одном флаконе".
Кому-то может показаться, что такие поиски уже бессмысленны, что единая страна — давно в прошлом, и историк Елена Стяжкина — это просто человек, которому больно, который завис между двумя мирами, отчаянно надеясь вернуться домой. А время для беспристрастной науки, мол, еще не пришло. Но другой вариант — это не делать ничего. "В конечном итоге, — говорит моя героиня (на этот раз не просто собеседница), — кто-то должен быть евреем, чтобы было государство Израиль.
Кто-то должен быть смешным и нелепым человеком, который верит и передает веру своим детям, чтобы, если хотите, столетиями говорить: "Следующим летом в Иерусалиме". Вряд ли это про вчера и вряд ли это про жизнь прошлым. Да, чтобы жить дальше, надо отрезать. И тут каждый сам решает, что именно, чего больше не будет никогда. Того Донецка больше не будет никогда. Но, может быть, будет другой. Должен быть другой. Я не знаю, буду ли жить в Донецке или между городами, или, может быть, между странами, но сделать все, чтобы другой Донецк был украинским, я должна попытаться. У каждого своя война. В окопах — жарко, мокро, холодно, снежно и всегда страшно. Но они ведь стоят там, наши воины"…
— Елена, не кажутся ли вам бесполезными ваша работа и идеи на фоне уже свершившегося психологического отсечения оккупированных территорий? Примеров тому — масса. В том числе отказ в выплатах пенсий на оккупированных территориях. Такое впечатление, что вы живете в какой-то другой реальности и говорите малопонятные для большинства вещи.
— Это плохо. Это, наверное, профессиональный вызов, если я говорю малопонятные вещи. Попробую его принять. Недавно, готовясь к конференции, посвященной советской повседневности и культурной памяти украинского общества, я задумалась над тем, где находится советское, действительно ли оно уже ушло из коммуникативной памяти и перешло в культурную. Очевидно, нет. Советское все еще с нами. В том числе в словах, которые мы используем, в способе думанья. Мне кажется, в разговоре от имени большинства в каком-то смысле есть отголосок советского. А в формуле "подавляющее большинство" — даже не отголосок, а целая система отношений человека и общества. Невинные вроде бы слова формируют в сознании образ одинаковых людей с одинаковым способом мышления, которые как будто заранее правы тем, что они — подавляющее большинство. Мой собственный словарь тоже состоит из советских слов, от них не так просто избавиться. Здесь надо постоянно говорить себе "стоп" и задумываться: это ты так думаешь или советский язык мыслит вместо тебя? Если вовремя сказать "стоп", то все выглядит несколько иначе — и общество, и то, что ты делаешь. Исчезает большинство, появляются очень разные люди, среди которых и единомышленники. А ради единомышленников — всегда есть смысл.
— Какие существуют инструменты, используете ли вы их, чтобы привлечь на свою сторону больше единомышленников, убедить в том, что отсекать нельзя?
-— Это не моя задача — привлекать сторонников. Я, слава богу, не политик. Если у меня что-то получается, так это только попробовать об этом подумать и предложить способ — как. Потому что когда мы думаем об этом по-другому, меняем парадигму, очевидно навязываемую нам Кремлем, то становимся чуть сильнее — это уже не кремлевский, а наш способ жизни. Мне кажется, если я могу что-то сделать, то только здесь.
— И все же, у вас есть сторонники среди политиков и политических сил?
— Я не знакома с политиками. Вернее, знакома, но не знакома.
— Как вы прогнозируете развитие ситуации в контексте реальности, а не только ваших идей?
— Мне кажется, мы несколько профанируем экспертное знание, поскольку не владеем полнотой информации, не имеем инструментов для ее анализа. Грубо говоря, многие из нас не выучили матчасть, чтобы профессионально с этим работать. А потому прогнозы, скорее, обывательские. Чем более модным становится этот жанр, тем больше у нас "экспертов". Запрос на качественные лонгриды снижается. Повышается — на резкую, яркую, остроумную, иногда гонзостайл-реакцию. Я не умею ярко, остро и быстро. Мне нужно подумать, поставить задачу, начать собирать входящие. Тогда, может быть, я смогу сказать.
— А разве вы не собирали входящие?
— Честно говоря, не так, чтобы ответственно сказать что-нибудь типа: я вижу, что в Украине есть три сценария…
— Просто вас называют идеологом термина "деоккупация". И здесь, наверное, стоит делать какие-то прогнозы.
— Здесь — да. Это слово и общественное движение — часть того, чем мои коллеги и я занимаемся с самого начала войны. В 2014 году кремлевская пропаганда очень рассчитывала на то, что вброшенные ею слова "сепаратизм", "референдум" и "донбасская идентичность" прорастут. Нашей же ключевой задачей было попытаться назвать все правильно; сформировать не видение, а слова и описания; сказать, что вот это — "война", "вторжение", "агрессия", "агрессор" и "оккупант". В этой системе ценностей о сепаратизме мы уже не говорим. Мы говорим об оккупации. И о том, что жизнь в ней — не новый сюжет в истории человечества. Этот процесс проходил везде одинаково, вариативно в персональном измерении, но в социальном — нет.
В оптике оккупации протектораты Богемия и Моравия — это не "извечная мечта" чешского народа, и это не про сепаратизм. А про часть идеологической работы Третьего рейха, осуществленной на территории оккупированной Чехословакии. Когда мы говорим об оккупации, то понятным и логичным становится то, что процесс нашей победы сопряжен с процессом деоккупации. Советская идеологическая машина очень активно поработала над официальным дискурсом памяти Второй мировой войны, сложив такую картину, в которой весь украинский народ, как часть советского, встал против врага и в результате победил. В этой линейной картине человек на оккупированной территории мог быть хорошим только если он героически погиб.
Советский миф о "всенародном сопротивлении фашизму" формировал ожидания поведения людей на оккупированной территории уже в этой войне. В 2014 году было очень травматично говорить, что оккупированные — это онемевшие люди, лишенные информационной субъектности. Тем более что кремлевская пропаганда все время выводила в информационное поле людей, говоривших страшные, отвратительные слова. В 2015 году слово "оккупация" уже не звучало таким вызовом, мы научились жить в войне и смотреть на происходящее критически.
Но в 2016-м это слово снова столкнулось с трудностями, поскольку стало контраверсионным для другого термина — "реинтеграция". Таким образом в информпространство была вброшена новая-старая идея сепаратизма. Ведь в нашем сегодняшнем поле "реинтеграция" означает, что Донбасс каким-то образом дезинтегрировался сам; что все происходящее — внутренняя проблема, социальный конфликт, и завершение его — внутреннее дело Украины. Слово это неплохое, если "реинтеграция" вписана в "деоккупацию". Но если оно работает само по себе, то, во-первых, создает нам "ирландский сценарий", которого нет. А во-вторых — снова выводит за скобки, в тень, Россию как страну-агрессора.
— Это слово вброшено нам международным сообществом?
— В этом слове была точка согласия между взглядом на нас европейцев и российскими хотелками. В какой-то части, возможно, это был осознанный союз, но в значительной мере — нет. Надо признать, что в обывательском сознании (и даже в части политического) Европа продолжает видеть Украину как часть какой-то большой советской-российской территории. И, соответственно, конфликт (не войну) — как гражданский. Если уж совсем грубо, то для какой-то части политикума и обывательского сознания война в Украине долгое время была чем-то вроде битвы каких-то странных племен за водопой. Их можно за это упрекать, но тогда нужно упрекать и себя.
Например, за то, что мы не быстро сумели пропустить через свое сердце сирийскую трагедию. Сейчас, думаю, взгляды как части политикума, так и обывателя изменились, потому что не признавать удивительного мужества украинцев нельзя. Приходит понимание, что это не битва за водопой, а настоящая война. Вместе с тем для осознания того, что Россия и Украина — две разные страны, что Россия напала на Украину, нужно включить очень много ресурсов — интеллектуальных, информационных, ресурсов коллективной памяти и самоосознания.
Но ресурс коллективной памяти не включается, потому что Европа наталкивается на собственную травму Второй Мировой войны. Память о собственной коллаборации с Гитлером, об оккупации, об очень сложных системах поствоенного урегулирования продолжает быть токсичной. Условная Европа, где "прошлое", как писал Тони Джадт, — это "другая страна", говорит нам: с тех пор прошло много времени, законодательства и общества очень гуманизировались. Поставить Украину на одну чашу весов со своим пережитым опытом Второй Мировой и после — болезненно невозможно, от этой травматической мысли Европа спасается бегством.
Слова "оккупация" и "коллаборация" — это включение механизмов памяти об "умиротворении агрессора", о расчленении Чехословакии и Польши, о Холокосте, о концлагерях, о "плохих" своих, о веселых парижанах, которые мило уживались с нацистами с 1940-го по 1944-й… Где-то здесь и лежит "реинтеграция", как возможная дистанция от собственного трагического опыта. Но мне кажется очень важным, что наши европейские коллеги не остановились в видении ситуации на уровне 2014-го. Очень медленно и неохотно (потому что экономика завязана, потому что российские лоббисты) они все же движутся в сторону понимания характера нашей войны. Мы же должны делать свое и немножко подождать, пока Европа поймет, что умиротворение агрессора развязывает ему руки. Это понимание мы оплачиваем очень дорого — жизнями наших воинов и мирного населения. Но пока — так.
— Не проводя качественные реформы, мы отодвигаем это их понимание, отбрасываем к видению нас как враждующих за водопой племен.
— Ну, во-первых, я бы все-таки не говорила, что мы их не проводим. Во-вторых, вместе с войной мы получили огромную советскую машину, обремененную комфортными коррупционными схемами. И советское, и псевдокапиталистическое нас в целом долгое время устраивало. Оно не было хорошим, но мы научились с этим жить. Когда мы что-то наследуем, то вообще не задумываемся о качестве этого наследия и часто воспринимаем это просто как традицию.
Вот, скажем, что такое школьная линейка? Такая масштабная профанация праздника, на которой поотрядно, повзводно происходит построение детей, которым скучно, холодно, жарко, неуютно. Построенные то ли по лекалам воинской части, то ли ГУЛАГа, дети учатся имитировать радость. Мы эту линейку унаследовали, почему-то считаем красивой традицией и не думаем, что можно как-то по-другому. Так вот, эту машину, унаследовавшую многое советское, нужно сломать. Сделать это в одночасье не получится. Слишком много задач к самим себе.
Но у нас нет времени, нам нужно быстрее. Когда нам кажется, что реформ нет, то, скорее всего, нас просто не устраивает их скорость. И, наверное, нужно просто сказать вслух, что по таким-то причинам быстро, хорошо и легко не будет. Но шанс сделать быстрее есть. Думаю, это вопрос информационного обеспечения — в каком обществе мы живем, где мы на карте, на каком отрезке времени находимся. Люди все равно будут испытывать разочарование, но изменения в головах, возможно, будут происходить быстрее. Какие-то изменения все же происходят.
Для меня очевидно, что Украина меняется.
— Да. Но, мне кажется, проблема все же в том, что у нынешних власть имущих нет образа будущего страны, нет стратегического видения, что и как нужно делать.
— Ну, не у всех. Например, в системе ProZorro люди точно понимали, что хотят сделать, и как эта идея будет влиять сегодня, завтра и через пять лет, то есть мыслили стратегически. Мне вот, например, интересно, что такое министерство, как оно вообще работает; что такое инструктивные письма, процесс принятия решений, согласование, межминистерская коммуникация. Боюсь, что здесь речь идет об институциональном запоздании или вообще о невозможности работать в такой институциональной парадигме. Потому что если все это так, как я себе представляю — когда каждый документ должен быть согласован, подписан; когда 10 подписей означают отсутствие ответственности; когда идея реформы забуксовывает уже на уровне отдела, — то это означает, что институционально способ организации остается советским. Это нужно осознать. Назвать механизм, который нам не подходит, показать, что это не работает.
— Без политической воли это вряд ли можно изменить.
— Многим так комфортно. Почему они должны меняться? Без первопроходцев, таких как Леся Литвинова с командой волонтеров, запустивших механизм электронного голосования в Общественный совет при Минздраве, задающих неудобные вопросы в Минсоцполитики, ничего не изменится. Я верю в первопроходцев.
— С активистами движения "Деокупація. Повернення. Освіта" вы проводили полевые исследования — изучали запрос на наказание и на прощение. К каким выводам пришли?
— Один из ключевых вопросов деоккупации — каким будет образование на освобожденных территориях. Мне кажется, это тот "второй фронт", который должен быть открыт, чтобы точно победить на первом. Есть почти хрестоматийный пример о том, как итальянцы начали борьбу с коррупцией, сделав ставку на поколение школьников и школу как таковую. Ученикам рассказывали, что такое коррупция и как — через сложные и простые механизмы — она ухудшает жизнь каждого. Расчет был на то, что дети, выросшие в антикоррупицонной парадигме, будут по-другому относиться к коррупции. Однако проект дал эффект значительно раньше.
Дети приходили из школы и разговаривали со своими родителями. И тем становилось стыдно. Конечно, итальянцы не победили коррупцию, но динамика позитивных изменений, как показала социология, оказалась высокой. В принципе мы говорим как раз об этом. О том, что может образование. Когда мы начали этим заниматься, то поняли, что процесс деоккупации имеет три географических (региональных) измерения: оккупированные, прифронтовые освобожденные территории и вся остальная Украина. Этот процесс (можем назвать его десоветизацией) необходим везде, и, похоже, его механизмы могут быть одинаковыми. В наших поездках мы беседовали с переселенцами (преимущественно с представителями переселенных вузов) и жителями освобожденных городов.
Потом подключили и людей с оккупированных территорий, анонимно. Это был трудный разговор. Первые 40 минут — скорее, облаченный в слова крик, в котором, как в слепленном кровавом комке, сочетались боль потери и предательства, жажда наказания, страх перед возвращением и желание вернуться. В дискуссии о возвращении на территории, которые будут освобождены, всегда первым был запрос на безопасность. Вторым — на наказание, причем страшное: лишение гражданства, изгнание, криминальное преследование, лишение званий, научных степеней, должностей.
И только в самом конце разговора на всех встречах очень осторожно звучало: "Подождите, но ведь не всех. Многие — вынужденно…" И в этот момент все соглашались, что люди на оккупированных землях ждут Украину. И что же тогда делать? Сложилась картина: прощение и наказание должны быть в "одном флаконе", они одинаково необходимы, а у нас острая нехватка законодательства и даже проговаривания. О чем мы говорим? О наказании за что? Если речь идет о войне и оккупации, тогда мы говорим о коллаборации. И тогда весь опыт человечества позволяет сформировать очень важный сигнал людям, вынужденно оказавшимся на оккупированной врагом территории: они не виноваты, это — вынужденно, они не могут быть наказаны за это. Но не все.
Очевидно, что кто-то (не такой большой процент, как об этом говорит и показывает Кремль) выбрал врага сознательно. И тогда он коллаборант, а никакой не сепаратист.
— Имеется в виду законопроект о коллаборации, который пока еще никто не видел, но уже многие бурно обсуждают?
— Это еще не законопроект. Документ, авторами которого являются Виталий Овчаренко и Ирина Лоюк при поддержке "Платформи спільної дії", пока только обсуждается. Там много спорных моментов. Авторы открыты для критики. Лично для меня в любом принятом по этому поводу законе были бы важны следующие моменты. Во-первых, слово "коллаборационизм", как бы страшно оно ни звучало, в том числе для наших европейских коллег. Поскольку оно очерчивает, кто враг, и четко формирует картину, в которой нет гражданской войны и гражданского конфликта.
Это крайне важно даже не для сегодня, а для нашего завтра. Украина, которая войдет в свое завтра с придуманно сепаратистскими регионами, и Украина, которая сделает это с временно оккупированными и освобожденными территориями — это две совершенно разные истории. Во-вторых, чтобы этот закон стал антидотом кремлевской пропаганде о "бандеровских концлагерях" и "хунте", там должен быть ясный и точный меседж — отсутствие коллективной вины и коллективной стигматизации в связи с этой виной. Чтобы люди на оккупированных территориях из статей такого закона смогли прочитать: вынужденная коллаборация и пребывание на оккупированной территории не означает, что люди в чем-то провинились. В большинстве своем. Возможно, этот закон следует назвать так, чтобы первым был посыл о прощении и о презумпции невиновности.
Третий принцип — важный момент, на котором настаивают люди с оккупированных территорий. Облечь его в слова помог молодой львовский юрист Тарас Лешкович: запрос на прощение и наказание на оккупированных территориях такой же, как и на освобожденных. Люди, которые ждут там Украину, очень сильно пострадали и страдают сегодня от оккупантов и коллаборантов. Одна наша коллега из оккупированного Донецка сказала: "Я бы хотела прийти и рассказать: почему я здесь осталась и что делала, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему". В европейском праве это называется правом на ответственность. Не обязанностью. "Я хочу объяснить" коррелирует с памятью о Второй Мировой войне и со стигматизацией людей в оккупации.
Четвертый принцип — это правда. Не только сказать, но и зафиксировать. И это тоже очень спорный момент. Есть разные исторические опыты (Испания, Чили, отчасти Франция), где отложенная правда, молчание, кажется, обладало некоторым эффектом. Амнистия и амнезия — Поль Рикёр об этом много рассуждал в своих исследованиях памяти. Амнистия как принудительная амнезия. Но для этого нужны колоссальные политические воля и ответственность. Такого масштаба, как были, например, у голлистов после Второй Мировой.
Наши политики вряд ли упустят случай спекулировать на войне и на памяти о ней. Поэтому правда, а не временная социальная амнезия, может быть более приемлемым, хотя и очень горьким лекарством. К слову, "долг помнить" все равно разрывает оковы молчания. И парадигму правды приходится с болью осваивать даже обществам, сумевшим договориться о "забвении и прощении". В ней никто не святой, и важным условием забвения и прощения является полная правда — личная, конечно, а потому субъективная — о том, что было сделано. Эта идея была положена в основу работы Комиссии правды в ЮАР. Мы могли бы попробовать. Но здесь снова — камень преткновения, болевая точка: что такое эти комиссии?
Наше прошлое и настоящее показывают, что они могут превратиться в энкаведешные тройки или стать очагом коррупционной активности. То есть нужны моральные авторитеты, которые взяли бы на себя эту непосильную ношу. У меня есть идея по поводу группы "1 грудня", но не знаю, согласились ли бы они на это. Но тогда вопрос — кто будут эти люди, к которым наша коллега с оккупированной территории придет и скажет то, что хочет сказать.
— Опять-таки очевидно, что одной группе с такими объемами не справиться.
— Конечно. В ЮАР эта комиссия переезжала из города в город.
У нас масштабы другие. Вопрос — кто будет в этих комиссиях, насколько они будут авторитетны, и кто их будет формировать — один из ключевых. Возможно, для этого нужен отдельный закон. Чтобы всем было ясно, кто эти люди и как туда попали. Может быть, не закон, а какое-то гражданское соглашение. Это очень проблематично. Но другой вариант — не делать ничего. Мне кажется, даже разговор на эту тему, экспертное обсуждение, широкая дискуссия имеют колоссальный и терапевтический, и юридический эффект. Чтобы каждый из нас увидел картину чужого страдания. Но и зла. Как оно было проявлено по отношению к человеку.
У нас очень много боли. Мы "закрываемся" от многих тем: в них больно работать. Но даже если такой законопроект не появится прямо сейчас, разговор об этом нам очень нужен. Он не будет легким, но такие общественные и политические разговоры не были легкими ни в одной стране, пережившей оккупацию. Суд в Бордо 1953 года. Детальное исследование Сары Фармер. Это история о невозможной, но случившейся трагедии, и о реакции французского общества — политиков, интеллектуалов, парламентариев и жертв. 10 июня 1944 года в городе Орадур сюр Глан произошла массовая казнь мирного населения, нацисты мстили за деятельность Сопротивления. 642 человека — мужчины были расстреляны, женщины и дети сожжены в церкви. Исполнителями казни были не только немцы, но и эльзасцы, мобилизованные в вермахт.
К суду удалось привлечь не всех: многие были убиты на фронте или находились в лагерях. На скамье подсудимых, помимо нацистских преступников, оказалось 14 эльзасцев. Одного из них приговорили к смертной казни, девять получили от 5 до 12 лет каторжных работ, четверо — от 5 до 8 лет тюрьмы. Этот приговор превратил Францию в одну сплошную болевую точку. Эльзасцы вышли на улицы с требованием амнистии. Их логика была такой: никто не защитил Эльзас во время аннексии, Франция согласилась с ней и ничего не сделала, когда Германия, вопреки соглашениям, провела там принудительную мобилизацию.
Лозунг "наши, несмотря ни на что" был поддержан парламентариями от Эльзаса и нашел отклик у многих политиков и интеллектуалов. Эдуард Эррио писал: "Франция — мать, которая не может позволить, чтобы ее дети разорвали друг друга у нее на груди". Лимож, провинция, где находился уничтоженный город, едва справлялся с болью. "Я — мать, которая потеряла все. Я требую наказания". Эти слова были понятны. И понятна была скорбь. Альбер Камю писал, что простить коллаборантов означает принести в жертву всех мертвых, кто сопротивлялся и кто не может себя защищать.
Провинции, города, улицы, газеты, парламент, президент Венсан Ориоль — все были включены в этот процесс. Де Голль настаивал: единство Франции — высшая ценность, которую необходимо защитить. В конечном итоге парламент 318 голосами при 211 против и 83 воздержавшихся проголосовал за амнистию. 13 эльзасцев под покровом ночи погрузили в машины и отправили домой. К большому счастью их родных. И к большому горю оставшихся жителей Орадур сюр Глан, которые в знак протеста не приняли присвоенный им орден Почетного Легиона и отказались принимать представителей официального Парижа на своей земле. "Этой амнистией, — пишет Сара Фармер, — сделанной в интересах единства страны, парламентарии в который раз отложили расчет Франции с военным прошлым…" Я не уверена, что это было правильное решение. Для меня эта история — важный пример того, насколько мы не одиноки и не уникальны в будущих поисках наших правильных решений, которые будут казаться правильными далеко не всем. Может быть, именно поэтому наш пятый пункт из полевых исследований условно называется "административное наказание".
— То есть не уголовное, как в зарегистрированном законопроекте Лапина?
— Да. Это важный пункт. Попытка ответа на вопрос — нуждается ли государство и общество в защите от людей, которые его предали. Не с оружием в руках, не убивая (для убийц как раз подходит уголовное законодательство), но предали. Есть предложения о лишении званий и должностей, возможности работать завкафедрами, деканами, ректорами университета. Называются очень разные сроки. Так, условные гуманитарии настаивают, что административный запрет должен быть на 10, а то и на 20 лет.
Условные технари говорят: нам нужны специалисты, чтобы строить мосты и дома. Трех лет достаточно. Что должно быть критерием, и каким должен быть срок? Дисбаланс подходов проявляется уже в этом.
— А в том, каких категорий это должно коснуться?
— Тоже. Единогласие относительно людей, занимающих административные должности при гауляйтерах Кремля, длилось минут 10. Потом появлялся вопрос: "А что если человек остался директором шахты, чтобы не развалить предприятие? А может, он вообще партизан, поставленный СБУ?" Говорили и об информационных коллаборантах и пособниках агрессора — о журналистах. Если такой закон будет принят, речь может идти о запрете на профессию в государственных СМИ, но может ли государство повлиять на кадровую политику частного СМИ? И что тогда со свободой слова? Кроме того, есть вопросы: необходим ли для всего этого отдельный закон, либо несколько разных законов, либо это могут быть решения, принятые, например, вузами, или министерствами? Во всем, что мы с вами проговорили, есть какие-то развилки, точки боли и принципиального несогласия. Но это означает, что мы готовы с этим работать.
— Уже есть определение, что такое коллаборационизм?
— Пока нет. Это одна из самых больших тонкостей закона. Нужно, чтобы была если не точка, то хотя бы поле согласия.
— Такой законопроект можно никогда не написать, настолько это сложно.
— Хорошо, что я не его автор. Но коллеги терпеливо работают. И я понимаю, что с ними сейчас происходит. Когда начинаешь об этом говорить, сразу становишься мишенью, которую хочется поразить и уничтожить. Потому что ты пришел и неожиданно нанес удар в живот: "Давайте поговорим о больном и страшном".
Я помню свои ощущения в первые 40 минут наших тяжелых разговоров. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Казалось, я отвечаю за все, раз поднимаю эти вопросы, и что именно меня будут сейчас казнить, ведь только так можно унять или выплеснуть боль. Авторы документа сейчас находятся примерно в такой же ситуации: они будто виноваты во всем. Им все время приходится оправдываться, что они не жестокие каратели и не охотятся на ведьм, с одной стороны. А с другой — что они не слишком либеральны и не хотят прощать больше, чем наказывать.
Но они держат удар и продолжают работать. Это достойно всяческого уважения.
— По поводу образования. В Славянске психологи рассказывали мне, что очень многое зависит от директора школы: каких взглядов он придерживается и какие кадры подбирает, такие идеи и вкладываются в головы подрастающего поколения, на которое еще и очень влияют разные родительские установки.
— Славянск — хороший пример. Факт освобождения городов от российской оккупации — далеко не все. Харьков, Киев, Винница не видели "братского бурятского народа" на своих улицах. Но это не означает, что деоккупация сознания здесь уже состоялась. Этот процесс требует структурных изменений. Образование и широкая гуманитарная витаминизация. Практики свободы. Навыки критического мышления и информационной безопасности. Способность к альтернативному моделированию ситуаций.
Формирование бизнес-мышления и социальной ответственности. Для прифронтовых и оккупированных территорий — дистанционные образовательные платформы. Здесь мы сильно опаздываем. Мы могли бы уже сейчас дистанционно учить студентов с оккупированных территорий в наших вузах. Там, где позволяет избранная профессия. Гуманитарным специальностям — точно.
В Украине есть серьезный костяк людей, системно занимающихся практиками деоккупации на освобожденных территориях. Максим Потапчук, Лора Артюгина, Александра Папина, Марина Пугачева, Богдан Чабан, Дмитрий Чичера, Сергей Косяк. У нас уже есть ряд кейсов и стратегий, которые работают сегодня на прифронтовых и могут быть технологически перенесены на территории, которые будут освобождены. Вместе с украинским флагом в Донецк должны и могут войти проекты "Живая библиотека", "Николаевка. Школа#3", Театр Переселенца и многие другие.
— Какая информация, по вашему мнению, нужна на оккупированных территориях? И нужна ли?
— Нужна. У меня есть два примера. В июне 2015 года спикер штаба Леонид Матюхин, стоя в двух километрах от Донецка, говорил дончанам: "Уважаемые друзья! Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сейчас находитесь там и не теряете веру в то, что правда все равно победит. Мы никогда о вас не забывали, мы всегда рядом". За два часа это 40-секундное видео просмотрели 40 тысяч человек.
Я точно знаю, что у многих людей в оккупации это видео есть на рабочем столе в компьютере, несмотря на угрозу прихода МГБ. 24 августа 2016 года президент произнес такой же меседж. Это очень важные слова. Мы много говорили с моей коллегой и подругой Анной Хрипунковой, что хотя бы в Сети нам нужно каждую неделю писать что-то такое, и Анна делает это: "Дорогие дончане, луганчане, мы вас очень любим. Вы извините, что мы сейчас не с вами. Но мы обязательно будем вместе.
Спасибо вам, что вы есть". Интенсивность пропаганды и кремлевского зомбирования таковы, что другие слова вряд ли эффективны, вряд ли смогут все это перебить. Здесь, конечно, нужны эксперты. Но я видела и точно знаю эффект от слов любви. Они работают как объятия.
— Даже несмотря на прекращение выплат пенсий?
— Как ни странно, да. Есть колоссальные дефицит и потребность услышать эти простые и правильные вещи: вы — наши, извините, что мы не с вами, что так долго, потерпите. Причем как от президента, от условных лидеров мнений, так и от самых обычных людей. Неприятности с пенсиями и слова любви проходят в сознании по каким-то разным линиям. Последние преодолевают все препятствия.
— В одном из предыдущих интервью вы заявили, что "для россиян действует презумпция виновности: пока не доказано обратное, гражданин РФ — враг". По-прежнему так считаете?
-— А есть какие-то обстоятельства, чтобы это изменилось? Эта фраза родилась из долгих разговоров между своими. У всех нас есть много разных чувств по отношению к тем, кто стал коллаборантом. Перед глазами каждого из нас стоит либо коллега, либо приятель, который в какой-то момент вдруг превратился в walking dead и пошел "есть" своих — целая бригада ходячих мертвецов.
Когда мы говорим об этих конкретных людях, гуманизма часто не хватает. Мы злимся. Иногда бывает так больно, что невозможно дышать. Мы обсуждали это и поняли, что без законов, без добра, без возможности вести разговор, без способности пусть даже к равнодушию, но вежливому, ничего не получится. Нам потребуется очень много добра, чтобы вернуться и все исправить. Когда мы стали представлять своих неприятных людей, то подумали: а что с россиянами? Вот тогда эта фраза и возникла: а на экспорт добра нет. Наши энергетические ресурсы ограничены, силы любви исчерпываются быстрее, чем силы ненависти, а сейчас ресурсы добра нужны нам здесь.
— Каково ваше отношение к украинскому языку и к полярным высказываниям о нем, например, к предложению Скрипки устроить гетто для русскоговорящих? Опять мы увязли в полемике, которая, казалось, как-то улеглась.
— Скорее всего, беспримерное мужество наших воинов показало Кремлю бесперспективность предложенной им формы войны. Мы выстояли и укрепились. Им стало понятно (да и всегда было), что все плохое мы можем сделать с собой сами. И на это направлены ресурсы. По поводу языковых проблем очень хорошо сказал Алексей Паныч: это важная тема, на которую мы сейчас говорить не будем. Ключевое слово "сейчас". Во время войны широкая общественная дискуссия на эту тему не делает нас сильнее. Если составить график пульсации "языковой темы" и посмотреть, когда, откуда и как она появляется, то можно найти отчетливую закономерность, а с ней — и отчетливую искусственность.
Скажем, последний виток был приурочен к майским праздникам, чтобы на него можно было реагировать в контексте социалистической, российско-советской идеи "мир, труд, май" и "деды воевали". "Гетто для русскоязычных" — это бэкграунд для информационной волны, внутреннего напряжения и создания очередного "распятого мальчика". Предыдущий всплеск языковой темы тоже коррелировал и с календарем, и с успешным сдерживанием нашими воинами линии фронта. Это песни с чужого голоса, построение которых достаточно технологично.
Словам Скрипки несколько месяцев, сказаны они были в определенном контексте и интонации, а вытащили их перед майскими.
— Какими методами, на ваш взгляд, должна строиться идентичность нового украинца? У нас появилось желание меняться. Но есть запрос на то, чтобы делать это теми же способами и методами, которыми в свое время формировался человек советский. На вашей лекции-дискуссии "Феномен советского человека" один молодой человек так прямо и сказал: зачем изобретать велосипед? Е.Головаха видит в этом угрозу заболеть какой-то другой, постсоветской болезнью.
— Это нормальное, если так можно назвать, возрастное "левацтво", упрощенная картина мира, свойственная даже очень хорошим людям, искренне во что-то верящим. В юности люди могут превращаться в "человека одной книги" или идеи, которая по-настоящему потрясла. И вот он воплощает ее в жизнь. Это такая болезнь роста. Многие молодые люди болеют либо ярко выраженным "левацтвом", социалистическими идеями, либо таким же ярко выраженным правым, расистским подходом к миру, где я — белый и прекрасный. Этим болели и болеют Западная Европа, и Штаты, все страны, которые нам симпатичны. Возможно, это какая-то определенная норма молодости.
Со временем, с образованием, с работой демократических институтов, площадок для обсуждения, с ростом гражданской активности — на каждого влияет какой-то свой фактор — это, в общем, выравнивается и входит в либерально-демократическую норму. Кто-то в этих идеях, конечно, застревает. Но если мы будем смотреть на влиятельность, количество и качество этих людей, то они отчетливые маргиналы.
— Таких довольно много. И вновь появляется отчетливый запрос на диктатуру…
— А что мы можем хотеть от самих себя, если живем в очень патерналистской парадигме? Если нам всем, и мне в том числе, хочется переложить на кого-то ответственность — чтобы кто-то взял меня на ручки и решил мои проблемы? Либерализм — это очень тяжелая штука, когда ты сам за себя отвечаешь, у тебя многое не получается, и денег нет. Цена вопроса хорошая — зато ты свободен. Но это ежечасный труд. Ничего не сделал — есть не будешь. А патернализм — это так удобно, так гарантированно, это очень комфортная философия. Я думаю, что история про диктатуру — это, скорее, история про патернализм и усталость. Но не про опасность.
— Создание новой идентичности — это о политической нации? Ее вообще реально создать?
— Да, она в процессе создания. Со всеми трудностями, отходами в сторону, будто в тупиковые ветви, будто шаг назад, но процесс идет. Он тоже не будет легким. Потому что создание политической нации происходит на фоне российской агрессии. И этот фактор очень важен как для создания политической нации, так и для очень сложных моментов в ее становлении. В этот процесс Россия постоянно подкидывает бомбы и подкладывает мины. И будет это делать впредь.
— Почему вы верите в Украину, что вам дарит надежду?
— Как-то на презентации книги Мирослава Мариновича "Всесвіт за колючим дротом" Ярослав Грицак сказал, что историческая наука не исследует чудо не потому, что она его отрицает, а потому, что у нас нет документов, записей, то есть того, с чем историк должен работать. Поэтому очень важно зафиксировать на бумаге, записать, что чудо случилось. Так вот Украина для меня — это чудо, которое произошло. И я хочу записать это на бумаге.
![]() Размещение материалов slavgorod.com.ua на других интернет-ресурсах и СМИ разрешается при условии,
что непосредственно в тексте материала не ниже второго абзаца присутствует гиперссылка и текст названия на первоисточник.
В случае нарушений, редакция современного сайта городов Славянск и Святогорск оставляет за собой право отстаивать свои права и интересы
путем подачи заявлений в правоохранительные и судебные органы, а также в виде соответветствующих публикаций на сайте.
Размещение материалов slavgorod.com.ua на других интернет-ресурсах и СМИ разрешается при условии,
что непосредственно в тексте материала не ниже второго абзаца присутствует гиперссылка и текст названия на первоисточник.
В случае нарушений, редакция современного сайта городов Славянск и Святогорск оставляет за собой право отстаивать свои права и интересы
путем подачи заявлений в правоохранительные и судебные органы, а также в виде соответветствующих публикаций на сайте.
ПОСЛЕДНИЙКОММЕНТАРИЙ
ОПРОС МНЕНИЯ
16 чел.
ЕЩЕ НОВОСТИ


НОВОСТЕЙ



-
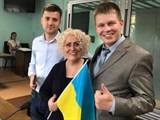 Возвращение Штепы в Славянск: заявления, версии, слухи
Возвращение Штепы в Славянск: заявления, версии, слухи
-
 О чем говорил Славянск на этой неделе
О чем говорил Славянск на этой неделе
-
 Славянск три года назад: как все происходило
Славянск три года назад: как все происходило
-
 Я - славянец. Портрет горожанина
Я - славянец. Портрет горожанина
-
 Мои секреты здоровья и красоты
Мои секреты здоровья и красоты
-
 Юный журналист
Юный журналист
-
 Энергия успеха: бизнес-истории
Энергия успеха: бизнес-истории
-
 Евроинтеграция. Европа вокруг нас
Евроинтеграция. Европа вокруг нас
-
 Болевые точки Славянска
Болевые точки Славянска


 Михаил
16 мая 2017 г. 21:34
Михаил
16 мая 2017 г. 21:34








